
Как работает позитивная дискриминация в стране бывшего апартеида? Что нужно понять российскому учёному с опытом патерналистской системы науки и государства, чтобы научиться жить и работать в стране, в которой от государства мало что зависит? Какие мифы о ЮАР оказались правдой, а какие — нет? Что лежит в основе плодотворных исследований и почему историю растительного мира пока нет нужды пересматривать? Об этом в интервью Т-invariant рассказывает доктор биологических наук Алексей Оскольский, который десять лет занимается исследованиями на кафедре ботаники и биотехнологии растений Йоханнесбургского университета.
СПРАВКА T-INVARIANT
Алексей Оскольский
Родился в 1962 году. В 1985-м окончил биолого-почвенный факультет Ленинградского государственного университета по специальности гистология и цитология. После аспирантуры в Ботаническом институте им. В.Л. Комарова РАН в 1989 году защитил кандидатскую диссертацию «Сравнительно-анатомическое исследование древесины представителей семейства Araliaceae Juss». В 2011-м — докторскую диссертацию по анатомии и морфологии семейства Araliaceae. В настоящее время — профессор кафедры ботаники и биотехнологии растений университета Йоханнесбурга.
Ресентименты белых, позитивная дискриминация чёрных и общая взаимовыручка
T-invariant: Южная Африка не самый типичный маршрут для российского научного эмигранта. Как вас занесло в Йоханнесбург?
Алексей Оскольский: Меня занёс сюда прежде всего научный интерес. Я занимаюсь изучением строения растений, их анатомией и морфологией, главным образом — их древесиной и корой. В Южной Африке встречается множество интереснейших объектов, и меня давно сюда тянуло. Среди них, например, были зонтичные, которые мы знаем по морковке, укропу и другим их родственникам. Но если в Европе зонтичные — это, в основном, травы, то на юге Африки — кустарники и деревья. Мне хотелось посмотреть строение их древесины. В 2006 году у меня завязалось сотрудничество с коллегой с нашей нынешней кафедры в Йоханнесбургском университете (Univeristy of Johannesburg, UJ), я впервые приехал в ЮАР, мы вместе собрали материал. Наша коллаборация оказалась успешной, да и страна мне очень понравилась. Потом моя предшественница с кафедры ушла на пенсию, я подал документы на её позицию и меня взяли. Так что я здесь с 2015 года, уже 10 лет.
Вообще, Южная Африка — это рай для ботаника: её флора поразительно разнообразна. Если флора всей России насчитывает 11 тысяч видов растений, то флора ЮАР — около 26 тысяч видов. И это на площади как две Украины! Великий ботаник Армен Леонович Тахтаджян, по книгам которого мы учились, выделял небольшую область вокруг Кейптауна в отдельное Капское флористическое царство. То есть он считал, что флора этой небольшой области по своему своеобразию и богатству сопоставима, скажем, с флорой всего Голарктического царства — огромной территории, включающей умеренную зону и субтропики Евразии и Северной Америки. На мой взгляд, он несколько перебрал, но флора тут действительно уникальная. Мне есть, где порезвиться.
Главные новости о жизни учёных во время войны, видео и инфографика — в телеграм-канале T-invariant. Подпишитесь, чтобы не пропустить.
Второе обстоятельство связано с карьерными возможностями. Я работал в Ботаническом институте имени В.Л. Комарова в Петербурге, и, в общем, на жизнь не жаловался. Но в какой-то момент понял, что подошёл к потолку своей карьеры. Я вполне встал на ноги как учёный, но, чтобы создать свою рабочую группу, мне нужно было становиться каким-нибудь начальником, например завлабом, чего мне очень не хотелось. Мне категорически не нравилась административная работа в условиях академического института, поскольку обязанности любого начальника в нём гораздо шире, чем зона его формальных возможностей. Иными словами, работа начальника слишком сильно зависит от личных отношений и личной лояльности.
Наконец, я просто хотел уехать из России, я не видел у страны будущего. Я, конечно, тогда не думал, что мои предчувствия сбудутся так быстро и так ужасно… Но триггером для отъезда послужил антисиротский закон Димы Яковлева, который был принят в 2012 году. Это по сути нацистский закон, рассматривающий сирот не как уязвимых людей, личностей, а как биомассу, которую можно выгодно эксплуатировать в политических целях. Нечто вроде нюрнбергских законов. К тому же у меня незадолго до этого родилась дочка, и мне хотелось ей обеспечить нормальную жизнь. Я понял, что надо действовать, и начал искать позиции. И тут такое везение: постоянная позиция в Южной Африке, причем на знакомой кафедре! Сейчас могу сказать, что это была самая большая удача в моей жизни. И, конечно, повезло, что моей жене, которая до переезда ни разу не бывала в ЮАР, страна тоже понравилась.
T-i: И как вам живется в ЮАР? Многим из нас эта страна представляется не лучшим местом для жизни.
АО: Конечно, есть свои проблемы, как везде. Но если у человека нормальная работа, проблемы — дело житейское. В целом мне в ЮАР очень нравится. Ну а расхожие представления о Южной Африке имеют очень косвенное отношение к реальности. Примерно как медведи с балалайками на улицах Москвы. Есть такой миф, будто при апартеиде ЮАР была благополучной страной, а потом пришли к власти чёрные, которые ненавидят белых и их угнетают. Это именно миф в строгом значении слова «миф» — то есть некое представление, которое значимо для мировоззрения его носителей. Людям важно в него верить даже вопреки фактам и опровержениям. Я постоянно сталкиваюсь с этой верой: её разделяют многие образованные люди, в том числе учёные, нередко — люди либеральных взглядов.
Чтобы объяснить их зацикленность на этой теме, я бы использовал слово «ресентимент» из сочинений Фридриха Ницше. Ресентимент — это, грубо говоря, самоутверждение своей идентичности через обиду на других. Когда утрачиваются позитивные смыслы, объединяющие людей, они обращаются к негативным, «нас обижают — следовательно, мы существуем»… Вы наверняка встречали российских патриотов, которые со сладострастием муссируют тему о том, как русских повсюду не любят. Им важно себя в этом убеждать — на этом держится их идентичность. Ну а у проевропейски настроенной публики есть свой ресентиментный миф про чёрный расизм и геноцид белых в ЮАР. Такой же дурацкий миф, как и про обижаемых русских.
По моему личному опыту, на бытовом уровне расизма в ЮАР практически нет. За десять лет жизни здесь ни я, ни моя семья ни разу не сталкивались с проявлениями расизма по отношению к нам. Никакой напряжённости, скрытой ненависти в отношениях между людьми разных рас я не ощущаю. Я очень рад, что моя дочка здесь живёт. Она училась в начальной школе, в классах которой было лишь по два или три белых ученика. Конечно, нам, выросшим в России, в окружении белых людей, поначалу находиться среди чернокожих непривычно. Но через некоторое время цвет кожи просто перестаешь замечать и обращаешь на него не больше внимания, чем, скажем, на цвет ботинок.
Впрочем, один случай я припоминаю. Мы как-то были на дне рождения у приятелей, и там темнокожая тётенька, будучи в изрядном подпитии, вдруг стала ругать белых, а заодно хвалить Путина, которого она мечтает иметь своим бойфрендом. Приятели потом специально звонили и извинялись за неё. Такой вот страшный чёрный расизм.
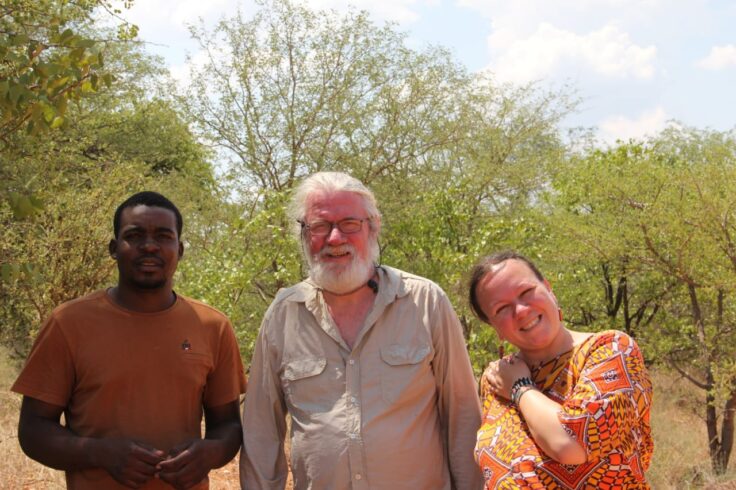
Из сказанного не следует, конечно, что все жители ЮАР пребывают в полной гармонии друг с другом. Но трагический опыт страны и житейский здравый смысл научил большинство её жителей держать свой расизм при себе вместе с другими низменными импульсами, иначе хуже будет, причём всем. Но это на бытовом уровне. На юридическом раса указывается в анкетах, а расовый состав работников, которых нанимает работодатель, регулируется законодательно. Этот состав должен соответствовать процентам разных рас в населении страны: около 80% должны быть чернокожими. То есть позитивная расовая дискриминация налицо, и она создает ряд проблем. Нередко человека нанимают не за его рабочие качества, а за цвет кожи, что не идёт на пользу делу, да и экономике в целом.
Но надо понимать, что в условиях ЮАР подобные меры отчасти оправданы. Не следует забывать: на протяжении двух поколений чернокожее население было фактически отрезано от современных технологий, нормального образования, от современного образа жизни. А теперь перед страной стоит задача преодолеть этот социальный разрыв и вовлечь чернокожих в жизнь современного общества. А это в один день не делается. Когда я был в ЮАР первый раз, в 2006 году, было почти нереально встретить чернокожего владельца собственной машины (разве что совсем развалюхи): за рулем были белые, а чернокожие копали землю. И это — через 12 лет после отмены апартеида. Сейчас ситуация меняется к лучшему: средний класс в стране становится многорасовым, а чернокожий автомобилист на вполне достойной колеснице уже никого не удивляет.
T-i: А не страдает ли от такого подхода уровень квалификации в университетах?
АО: Страдает, но не фатально. Надеюсь, что со временем юридическое регулирование расового состава будет отменено: разговоры об этом уже идут. Впрочем, и нынешняя ситуация очень далека от того, что называют «геноцид» или «расовая ненависть». К тому же, судя по нашим знакомым (в основном белым и индусам), все они благополучно устраиваются. Ну, и меня приняли на работу уже после введения этого закона.
T-i: Помимо популярного мифа о дискриминации белых, есть ещё мнение о том, что в ЮАР серьёзная проблема с преступностью.
АО: А вот это не миф, преступность действительно высокая, но её уровень очень разный в разных районах. Если не ходить, куда не надо, и соблюдать несложные меры предосторожности, риски не выше, чем в любом крупном городе. Например, в Петербурге.
Преступность — результат резкого социального расслоения: большая часть населения не просто бедная, она очень бедная. В ЮАР есть современная экономика и инфраструктура, но есть и масса народу, которому трудно в эту среду вписаться. В результате в стране очень высокая безработица, около 30%. Отсюда и преступность: есть-то безработным хочется. Большинство живёт разовыми или «серыми» заработками, но некоторые идут в криминал.
Я думаю, что одна из главных причин такого положения — резкое неравенство в уровне школьного образования между крупными городами и глубинкой, унаследованное от апартеида. Сейчас ситуация улучшается, но медленнее, чем хотелось бы. Вот мы ругаем российское школьное образование, однако выпускники даже слабых школ имеют достаточные базовые навыки для того, чтобы работать в офисе или на кассе в супермаркете. Здесь не так. Выпускник из глубинки часто бывает в состоянии только землю копать, а если очень повезёт — работать парковщиком при супермаркете или заправщиком на бензоколонке. И лишь университетское образование служит ему лифтом для нормального трудоустройства.
T-i: Как это отражается на ваших студентах?
Я преподаю цитологию растений. На практических занятиях я даю студентам снимки клеток, сделанные под электронным микроскопом, и прошу определить размер клеточного ядра, используя масштабный штрих. Для многих студентов это оказывается непосильной задачей. Более того, были случаи, когда студенты не могли измерить размер клетки на фотографии линейкой. Они просто не знали, как это делается. В школе не научили. Впрочем, за десять лет, которые я тут преподаю, уровень студентов сильно вырос, и в последние годы большинство из них успешно справляется с подобными заданиями. Это обнадеживает.
Коль скоро разговор зашел про образование, скажу, что в крупных городах, как правило, вполне приличные школы. Моя дочь учится в прекрасной high school, это просто Хогвартс! Но расслоение на уровне базового образования – одна из ключевых проблем страны, на мой взгляд.
T-i: Много ли у вас студентов-иностранцев? Из каких стран едут учиться в ЮАР, если едут?
АО: Не очень много, но есть, главным образом из Зимбабве и Нигерии. В этих странах школьное образование посильнее, чем в ЮАР, поэтому студенты оттуда неплохо подготовлены. А университеты там явно слабее…

T-i: Что вас больше всего по-человечески удивило, когда вы только приехали в ЮАР?
АО: Наверное, две вещи. Во-первых, природное разнообразие. Достаточное проехать 100 километров, чтобы ландшафт изменился кардинально, а ты увидел много интересного, такого, что не вписывается в обычную, привычную европейцу картину. Во-вторых, очень здоровые отношения между людьми. В целом здесь как-то очень спокойно, и с людьми приятно общаться. Может, свою роль играет и климат, но многие, приехав сюда, отмечают, что здесь хорошо. Я знаю немало людей из благополучных стран, которые переселились в Южную Африку. Она действительно цепляет. Хотя тут жёсткий капитализм. Бесплатного почти ничего нет. Но очень быстро приходит понимание, что это правильно, и всё ставит на свои места.
T-i: Что вы имеете в виду?
АО: На мой взгляд, ЮАР — это либертарианская страна. Здесь не работает почти ничего из того, что связано с государством, но от государства тут мало что зависит.
Взять к примеру какой-нибудь home affairs и бюрократические структуры. Чтобы получить нужные бумажки, надо ждать годами. Бюрократия работает очень плохо, никаких тебе Госуслуг. Но здесь можно жить благодаря тому, что государство не очень-то вмешивается в жизнь, а у людей прекрасные навыки самоорганизации и солидарности.
Почти всё, что здесь есть хорошего, негосударственное. На бытовом, низовом уровне соседи собрались, замутили что-то или друг другу помогают. Именно на этом в значительной мере здесь и строится жизнь. Конечно, какие-то проблемы таким образом решить невозможно. Но в целом жизнь комфортная и вполне спокойная.
Актуальные видео о науке во время войны, интервью, подкасты и стримы со знаменитыми учёными — на YouTube-канале T-invariant. Станьте нашим подписчиком!
T-i: К чему вам было тяжелее всего привыкнуть?
АО: Это, конечно, то, с чем сталкиваются все эмигранты: куча мелких бытовых вопросов, которые ты не знаешь, как решать. При том, что местные жители даже представить себе не могут, что кто-то этого может не знать. Кто же не знает, к кому обращаться, когда потёк кран или надо заплатить налог за машину. В ЮАР ситуация усугубляется тем, что большинство местных жителей никогда не бывало за границей — их мир ограничен этой страной.
А потом главной проблемой становятся неработающие home affairs. Моя жена до сих пор, то есть уже 10 лет, не может получить внутренний ID из-за того, что бюрократическая машина здесь работает жутко медленно и невнятно.
Непривычно вначале, что здесь почти нет общественного транспорта. Все передвижения — на машинах. Дочка хочет в гости, ей надо на занятие — везде возим.
Вообще, недостатков у ЮАР хватает. Высокие накрутки на международные банковские переводы и на обмен валюты, изношенная электрическая сеть, низкое качество многих местных промтоваров, антиизраильская и пророссийская политика нынешнего руководства, много чего ещё. Но плюсы перевешивают.
T-i: А в научной работе?
АО: Тут уже мои личные особенности.
Я люблю чистую науку, и мне становится дико скучно, когда речь заходит о практическом применении её результатов. Иногда про это надо писать в разных бумагах — я отношусь к этому как к пустой формальности. А вот местные коллеги, наоборот, зациклены на практике. И меня немножко напрягает то, что студентам и местным коллегам чистая наука малоинтересна. Для того, чтобы их зацепила какая-то тема, нужно, чтобы растение как-то использовалось. Например, в народной медицине или в местных магических практиках. Разумеется, они не собираются заниматься магией, да и исследования у нас совсем о другом. Тем не менее причастность к чему-то практическому для них важна.
Это особенность местного менталитета, крестьянского в своей основе. Я тут лучше стал понимать философию Аристотеля, идею целевой причины, энтелехии. Местные ребята — его стихийные последователи, здесь все должно быть зачем-то нужно. А я вот, скорее, платоник…
Ещё не Оксфорд
T-i: А каково место вашего университета в системе мирового высшего образования? Насколько это высокое или низкое положение, насколько значимое?
АО: Университет был основан в 1967 году, назывался Randse Afrikaanse Universiteit, и преподавание в нём велось на языке африкаанс. Это язык африканеров (буров), то есть потомков голландских колонистов, основавших в XVII веке Капскую колонию и город Капстад, более известный как Кейптаун. Сейчас африкаанс — один из 11 официальных языков ЮАР. В отличие от английского, на котором говорят практически все, африкаанс — в основном язык белых.
20 лет назад, в 2005 году, Randse Afrikaanse Universiteit объединили с двумя другими учебными заведениями в UJ. От прежнего университета он унаследовал сильную профессуру, но преподавание в нём стало англоязычным. Благодаря этому наш университет стал доступным для всех, и сюда хлынул народ из провинции. Наверное, это можно сравнить с наплывом рабоче-крестьянского студенчества в советских университетах 1930-х годов. Конечно, это не очень располагало к достижениям и рейтингам.
Когда я пришел в UJ в 2015 году, он был на девятом месте в рейтинге по ЮАР, и где-то на шестисотом в мировых рейтингах. По ощущению — российский провинциальный педвуз, но с сильными профессорами. Но в последние годы наш университет изрядно рванул вперёд. Сейчас среди молодых университетов, которым меньше 30 лет, он занимает шестидесятое место в мире и первое в ЮАР. Ещё мы вышли на первое место среди университетов ЮАР по количеству научных публикаций. Иными словами, наш университет пока не стал Оксфордом, но явно перестал быть провинциальным педвузом. В этом заслуга не только преподавателей, но и очень толкового менеджмента, по крайней мере на нашем факультете.
T-i: Каково в целом положение образования и науки в ЮАР?
АО: В ЮАР есть и несколько сильных старых университетов. Университеты Кейптауна, Стелленбоша, Витватерсранда, например. Это университеты мирового уровня, с яркими научными школами и устоявшимися традициями. Вообще к науке в ЮАР очень почтительное отношение. Но ЮАР — страна бедная, так что многое зависит от того, как повезёт с финансированием. Моя область, структурная ботаника, хороша тем, что не требует очень больших финансовых вливаний: микроскоп, некоторое количество простеньких реактивов и, пожалуй, всё. Тем, кому требуется дорогостоящее оборудование и реактивы, сложнее. Ещё мне нравится, как тут разумно устроена поддержка науки.
T-i: А в чём её особенность?
АО: Она заточена не столько на институты, сколько на конкретных учёных. Если учёный аффилирован с ЮАРовским институтом, за каждую публикацию он получает определённую сумму от Департамента высшего образования в размере около трёх тысяч долларов, делённую на количество соавторов. Конечно, не в личный карман, а на дальнейшие научные исследования. Сумма небольшая, но когда у тебя десяток публикаций, это позволяет худо-бедно поддерживать себя даже без грантов. Кроме того, какое-то финансирование выделяет университет, иногда вполне заметное. В прошлом году я получил от него около 1,8 млн. рандов (примерно 100 тысяч долларов) на покупку современного ультрамикротома (прибора для изготовления тонких срезов растительных тканей для их изучения под микроскопом).
Ещё в ЮАР существует очень разумная система рейтинга учёных. Каждые пять лет ты подаешь заявку в National Research Foundation, аналогичную заявке на грант, описываешь в ней твои достижения и планы на будущее. Эксперты тебя проверяют и присваивают тебе определенный рейтинг, от которого сильно зависят твои дальнейшие возможность получить поддержку и сделать карьеру. То есть тут не получится защитить докторскую и всю оставшуюся жизнь спать спокойно: надо демонстрировать свой потенциал и итоги в текущем режиме.
T-i: А есть что-то в системе науки ЮАР, к чему бы вы рекомендовали присмотреться тем, кто руководит научной политикой в России, в том числе Академией?
АО: Если честно, на РАН я смотрю как на забавный исторический курьёз. Я бы порекомендовал РАН избавиться от иллюзий по поводу самой себя. Но если серьёзно, по-моему, один из главных системных недостатков российской науки состоит в том, что она организована как индустриальное производство. То есть институт — это аналог фабрики; на ней работают учёные — наёмные пролетарии, производящие научную продукцию по заданию руководства. Финансирование науки исходит из этой модели: средства получает дирекция института, платит учёным зарплату, а остальные средства до них редко доходят.
Очевидно, что такая модель неадекватна реалиям научной работы, поскольку по факту учёный не пролетарий, а предприниматель. Любое научное исследование — уникальный бизнес-проект. И чтобы его осуществить, учёный должен иметь возможность получать и контролировать средства, отпущенные на него. Грантовое финансирование, как и те формы поддержки науки в ЮАР, про которые я говорил, гораздо адекватнее для исследователей, чем поддержка через структуры РАН и академических институтов. Так что я бы рекомендовал превратить академические институты в аналоги бизнес-центров, но учитывающие специфику работы учёных. По сути, наш университет примерно так и организован.
T-i: Какие научные результаты вам удалось получить за время работы в ЮАР?
АО: Я довольно много чего успел сделать. У меня за эти десять лет вышло раза в два больше публикаций, чем за предшествующие двадцать. Здесь легко и плодотворно работается. Возможно, климат хороший. Но за единицу времени я успеваю сделать здесь два раза больше, чем в России. Многократно проверено. Когда я приезжал в Питер, жил в удобной квартире, у меня был свой компьютер, мне никто не мешал, всё равно работа шла очень медленно.
T-i: Какие ваши конкретные научные результаты для вас наиболее ценны?
АО: При всём разнообразии растений ЮАР их систематика, география, экология изучены весьма неплохо. Но вот их морфология и анатомия исследованы пока очень слабо: структурная ботаника вообще тут не очень-то развита. Так что с моей специальностью я оказался в положении первого парня на деревне.
Как я говорил, изначально в Южную Африку меня привлекли древесные зонтичные. Изучая их, мне удалось придумать модель, объясняющую ряд особенностей эволюции древесины при переходе от трав к кустарникам и деревьям. На эту тему был ряд спекуляций, но мне удалось свести воедино данные о строении древесины, особенностях ветвления и ритмики роста растений, а также о гормональной и генетической регуляции их развития. Получилось вроде бы правдоподобно, работает не только для зонтичных…
Или вот я упоминал Капское флористическое царство, выделенное Арменом Леоновичем Тахтаджяном. Основная часть видового богатства этого царства (около четырёх тысяч видов, главным образом эндемичных, то есть не встречающихся больше нигде) сосредоточена в финбоше. Так называются очень красивые заросли вечнозелёных кустарников, таких, как верески, протеи и много кто ещё, характерные для Капского региона с его средиземноморским климатом и регулярными пожарами. Мы изучили строение древесины у большинства групп растений, характерных для финбоша, и впервые составили представление о его разнообразии. Кроме того, мы сравнили наши результаты с данными по похожим типам кустарниковой растительности из областей со средиземноморским климатом: чапарралю из Калифорнии и маквису из Израиля. Подобное сравнение позволило пролить свет на особенности эволюции древесины у кустарников из финбоша, чапарраля и маквиса и проверить ряд гипотез о стратегиях приспособления их водопроводящей системы к условиям летней засухи. Ну, и, конечно, поставить массу новых интересных вопросов.

Иногда изучаешь строение какого-то отдельного растения и обнаруживаются удивительные, совершенно неожиданные вещи. В этом году, например, мы с аспиранткой опубликовали статью про строение коры карандашного дерева Euphorbia tirucalli из рода молочаев. Надо пояснить, что любое дерево, растущее в толщину, должно решать проблему сохранения целостности коры: кора не резиновая, она имеет склонность растрескиваться, отставляя внутренние ткани беззащитными — прежде всего от обезвоживания… У подавляющего большинства растений целостность коры обеспечивается нарастанием особой покровной ткани — пробки (точнее — перидермы). У нашего молочая тоненькая пробка тоже появляется, но позже. Поначалу же у него просто рвется кожица (эпидермис), а образующиеся разрывы растение, грубо говоря, залепляет млечным соком. Такой способ расширения коры нигде описан не был. Эти разрывы в чем-то похожи на чечевички, присутствующие на коре многих деревьев и необходимые для газо- и влагообмена. Но в любом учебнике написано, что чечевички — это часть перидермы. В нашем же случае получается, что «чечевички» есть, а перидермы нет
Вообще я здесь активно занялся корой. Это очень интересная тема. Казалось бы, она лежит буквально на поверхности, но у неё много загадок. В частности, мы очень мало знаем о том, как связано внешнее строение коры и её микроструктура. Например, почему у одних деревьев поверхность коры растрескивается вертикальными бороздами, а у других — сетью горизонтальных и вертикальных трещин? Я придумал гипотезу, объясняющую это различие с позиций биомеханики; надеюсь, что скоро выйдет статья об этом. Сейчас думаю о том, как ее протестировать.

А ещё недавно мы опровергли мировую научную сенсацию. Начало ей положила статья Shi et al. (2022), опубликованная в журнале Nature Plants. Её авторы изучили цветки из середины мелового периода (возрастом около 99 миллионов лет), найденные в янтаре из Мьянмы, и отнесли их к современному роду Phylica, растущему как раз в Капской области. А филика по всем признакам — род молодой, ему около 20 миллионов лет. Но если допустить, что он в пять раз старше, то возраст всех остальных групп цветковых растений тоже надо пересматривать. Молекулярные датировки с учётом мелового возраста Phylica дали шокирующие результаты: согласно им, цветковые растения появились почти 300 миллионов лет назад (в самом начале пермского периода), а не примерно 140 миллионов лет, в начале мела, как принято считать. Это было похоже на фоменковщину в отношении истории растительного мира. Для меня статья про цветки из янтарей тоже стала шоком, но другого плана: я был поражен тем, что никто из 40 соавторов, пяти рецензентов и скольки-то там редакторов журнала Nature Plants не заметил массы откровенных ляпов в этой статье. Например того, что её авторы приняли одиночный ископаемый цветок за соцветие. Мы написали опровержение сенсации, и теперь историю растительного мира нет нужды пересматривать.